Николай Каразин. Кочевья по Иссык-Кулю (3/3)
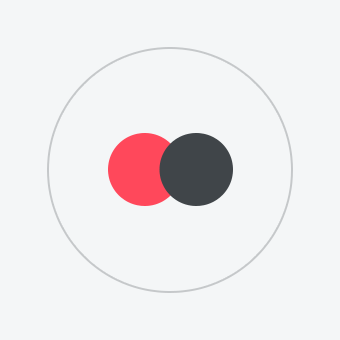 (Н. Н. Каразин. Повести, рассказы и очерки. — СПб., 1874)
(Н. Н. Каразин. Повести, рассказы и очерки. — СПб., 1874)Источник: http://rus-turk.livejournal.com/280880.html
См. также: Н. Н. Каразин. Наурусова яма.
Часть 1. Часть 2.

Берега озера Иссык-Куль. С рисунка Н. Каразина
План предполагаемой охоты был следующий. Еще с вечера человек двадцать верховых были посланы в объезд к тому месту, где замечены были куланы. Принимая во внимание необыкновенную чуткость этих диких лошадок, объезд этот должен быть сделан со всевозможною осторожностью. По словам Аблая, посланные только к утру могли окончить свой маневр, а зная скорый шаг кара-киргизских лошадей, можно безошибочно предположить, что они прошли в ночь не менее шестидесяти верст. Затем они должны были приближаться мало-помалу к куланам и гнать их назад к лощине, где их предполагала встретить вторая группа охотников, к которой принадлежали и мы, и этим поставить животных в самое невыгодное положение, что называется, между двух огней, и тут-то при входе в лощину, на довольно ровной местности, должна была начаться настоящая травля, где наездники могли вполне выказать ловкость и поворотливость как свою, так и своих коней. Таким образом, спектакль предполагался замечательный, и я от души благодарил Аблая-бия за его идею; конечно, благодарность эту я скрыл в своей душе, постаравшись выразить ее в самых скромных размерах, иначе это могло скомпрометировать меня в глазах кочевого населения.
День был пасмурный, и вдали, над озером, стояла густая стена беловатого тумана. Все окрестности были покрыты словно дымкою; из гор тянул довольно холодный ветер. Киргизы вообще не любят ездить большими обществами, и скоро наша группа состояла только из пяти человек: Аблая-бия, меня, Байтака и двух сыновей старика, все остальное мало-помалу отделилось от нас то в сторону, то отстав, то ускакав вперед.
После двухчасовой скорой езды, во время которой мы едва поспевали на своих лошадях за иноходцем Аблая-бия, мы прибыли на назначенный заранее пункт. Здесь дожидалась нас большая часть общества, а скоро съехались и все остальные.
С востока местность была ровная, постепенно понижающаяся к нам, с запада нас защищала от ветра невысокая цепь скалистых холмов, между которыми, прерываясь, тянулась полосою поверхность Иссык-Куля. Кое-где прорезывали равнину рытвины, промытые весеннею водою; издали рытвины эти обозначались рядами пожелтелого камыша, который разросся здесь, пользуясь скопившеюся на дне их влажностью. Общий вид местности был чрезвычайно унылый и пустынный, и только оживлялся пестротою костюмов и движением охотников.
Охотники не старались наблюдать особенной тишины: они слезали с лошадей, громко разговаривали и смеялись, поправляли седла и подтягивали очкуры своих широких кожаных шароваров; полы халатов были запрятаны в шаровары, что имело вид курток и давало возможность всаднику быть более свободным в своих движениях. Расставленная на далеких расстояниях цепь конных часовых должна была вовремя дать знать о приближении табуна, и потому всякий свободно занимался своим делом, казалось, вовсе не обращая внимания на окружающих. Меня так и подмывало; я с трудом сдерживал волнение и вымещал его на своем коне, стискивая ногами его крутые ребра.
Не более как через час прискакал один всадник, за ним другой, потом еще несколько: это были часовые. Все общество отъехало в сторону, под защиту пологого холма, и положительно замерло на месте; лошади наши, казалось, понимали всю необходимость сохранять тишину и неподвижно стояли, поводя своими надрезанными метками ушами. Байтак слегка толкал меня коленом и движением головы указывал в даль, где я, как ни старался, ничего не мог заметить, кроме отдельных групп камыша и волнующегося тумана.
Скоро до моих ушей начал доноситься какой-то неопределенный шум, казалось, что ветер переменил свое направление и дул прямо на нас. Далеко-далеко стукнуло что-то весьма похожее на выстрел; зубчатая полоса камыша на горизонте заколыхалась оживленнее; внезапно, словно из земли, выросло, показалось отдельное животное, другое, третье, разом несколько, — и целый табун, голов в пятьдесят, вылетел из камышей и несся к нам, немного уклоняясь в сторону от того холма, где скрылась наша группа. По моему расчету, куланы должны были промчаться мимо нас не более как в полутораста шагах. Раздался отвратительный нечеловеческий визг, и киргизы, пригнувшись к шеям лошадей, расправляя в воздухе свистящие арканы, с места в карьер ринулись на ошеломленных растянувшихся животных. Началась бешеная, дикая скачка. Я вслед за Аблаем-бием выскакал на вершину холма, и мы остановились зрителями охоты; Байтак смешался с охотниками.
Никакие европейские скачки не могут дать понятия о том, что происходило перед моими глазами. Глубокие рытвины, колючий кустарник, отдельные камни — ничто не задерживало скачущих; дикие наездники, казалось, не знали препятствий. Рев, визг, стон, ржание лошадей, то замирая, то усиливаясь, носились в воздухе.
Ух! какая своеобразная, живая, полная удали картина!
Трудно описать подробности этой схватки диких, полных энергии, быстрых как мысль животных с такими же дикими наездниками. Мы с Аблаем-бием спустились с холма и направились вслед за скачущими. Скоро мы обогнали киргиза, который шел пешком, ведя в поводу свою лошадь, ковылявшую на трех ногах: одна задняя была сломана в щиколотке. Какое тяжелое уныние было написано на лице пострадавшего, какими жадными глазами он смотрел вслед удаляющимся товарищам! Потом нам попалась кулан-кобыла, которая билась на земле в предсмертных судорогах, пытаясь вскочить при нашем приближении — кровь бойко сочилась из-под ее передней лопатки: она угодила под острие гибкой пики расходившегося наездника. Нам еще попадались куланы, то совершенно мертвые, то еще с признаками жизни, усиленно дрыгающие в воздухе своими мускулистыми, сильными ногами. Маленький, недельный жеребенок жалобно жался к своей погибшей матери; при виде нас отпрыгнул немного в сторону и усиленно заморгал своими испуганными черными глазками. Попался и киргиз, лежащий навзничь, без чувств, раскинув крестом руки, еще сжимающие волосяную веревку аркана. Аблай-бий, заметив мое движение к лежавшему, обрывисто сказал: «Оставь! если жив, то сам очнется и придет, а если умер, то подберут без тебя». Помня пословицу, что в чужой монастырь с своим уставом не суются, я проехал мимо. Мы обогнали трех всадников, которые едва сдерживали, все вместе, бившегося на трех туго натянутых арканах кулана. Скоро мы остановились почти у самого берега, где нашли большинство охотников, проваживающих своих измученных, покрытых пеною коней. Как ни сильна и неутомима киргизская лошадь, но ей трудно тягаться с своим диким родичем, и весь табун скрылся в горах, далеко оставив за тобою последователей. Осталось отдыхать и собирать разбросанную по всему пути добычу, что мы и сделали.
Вся прибыль дня заключалась в девяти убитых и тяжело раненых куланах и четырех живых, да еще двух жеребятах. Убыль — из одного убитого (как оказалось) киргиза и искалеченной лошади, а так как человеческая жизнь в этих краях не имеет особенной ценности, то в общем итоге — день оказался весьма барышный.
Было уже совсем темно, когда мы вернулись в аул.
Часам к десяти вечера поспел зажаренный в бараньем сале маленький куланчик. Мясо это было очень вкусно; оно не могло сравниться нежностью и мягкостью с мясом хорошо откормленного домашнего жеребенка, но зато имело свой собственный аромат и вкус, напоминающий несколько мясо дикой козы. Проголодавшись донельзя, я ел его с большим удовольствием.
После ужина перед кибиткою Аблая-бия собрался почти весь аул: явились музыканты с балалайками, бубнами и котлами, затянутыми бараньим пузырем, по которому били деревянными палочками; нашлись плясуны, и начался сперва медленный, монотонный, а потом все живей и живей разгорающийся танец…
Между прочим, готовился спектакль более интересный, чем прыганье танцоров. Толпа расступилась и дала дорогу высокому, хотя и сильно сгорбленному старику с жидкою, длинною бородой, уже не седой даже, а пожелтевшей от старости; верблюжий халат был накинут на сухое мускулистое тело, почерневшее, как мумия. Старик был слеп, из-под густых седых бровей темнели глубокие ямы с опущенными веками, длинный горбатый нос свешивался над беззубым ртом; высокий лоб был совершенно изборожден бесчисленными морщинами.
Старик медленно опустился на подостланную под него баранью шкуру, взял длинную балалайку и начать перебирать струны своими костлявыми пальцами.
Все присутствовавшие с почтением относились к старику; молчание воцарилось повсюду, только слышалось тихое дребезжание струн и глухой шелест сдвигающейся плотнее толпы.
Это был известный по всему кочевому миру — певец-импровизатор — Гасан, о котором я слышал много еще прежде, и которого наконец удалось мне видеть вблизи и слушать его импровизации.
Я жадно слушал этого степного Гомера и старался вникнуть в содержание и смысл его песни; и как я жалел, что не настолько знал этот язык, чтобы подстрочно записать все слышанное.
Он пел об известном агитаторе тридцатых годов — Кенисаре; о его войнах с русскими, о его бегстве; о его несчастной любви, об измене его друзей и, наконец, о его геройской смерти…
Аблай-бий шепнул мне: «Он сам был все время с Кенисарой, и тогда уже он был седой старик».
А слушатели молча стояли и сидели вокруг, покачивая головами в такт пения, и не один тяжелый вздох вылетел из груди, сливаясь с однообразным напевом старца.
Вообще, у киргизов женщины далеко не находятся в таком рабском унижении и забитости, как у прочих мусульманских народов. Одного из самых тяжелых стеснений, именно: ходить вечно с покрытым лицом и не сметь показываться никому кроме своего мужа, здесь не существует вовсе; женщина, особенно незамужняя, может, сколько ей угодно, кокетничать и пользоваться теми благами, которыми ее одарила природа. Женщины здесь являются прямыми участницами во всех общественных празднествах и обрядах, на некоторых ей принадлежат даже лучшие роли, и все это заметно отражается на ее характере. В киргизском ауле — женщина не убежит при вашем приближении; она смело подойдет к вам, бойко разговаривает с вами и громко и весело смеется, показывая при этом ослепительно белые, ровные как на подбор зубы.
Кара-киргизки довольно красивы, насколько красота может выражаться в прекрасном сложении, в здоровом коричневом цвете лица с густым малиновым румянцем, в веселом приветливом взгляде, и, смотря на эти положительные достоинства типа, забываются или по крайней мере остаются незамеченными широкие скулы, косо прорезанные глаза и жесткие, прямые, как конские, — волосы. А когда вы увидите кара-киргизку в полном блеске праздничного костюма, верхом на огненной лошадке, несущеюся впереди толпы преследующей ее молодежи, то как бледны покажутся в сравнении с ней наши лимфатические светские дамы, кривляющиеся на разбитых клячах по аллеям наших загородных парков!
Обыкновенный костюм киргизок состоит, кроме длинной рубахи, из широких шаровар, халата и тюрбана на голове, все это из синей бумажной ткани, кроме тюрбана, который всегда белый. В холодное время халат бумажный заменяется таким же костюмом из верблюжьего сукна. Но в торжественном случае весь костюм женщин поражает своей яркостью и оригинальностью. Преобладающий цвет — красный; вместо тюрбана надевается на голову высокая повязка вроде наших павловских киверов, только еще выше, вся унизанная монетами и обшитая галуном. Заплетенные в бесчисленные косы волосы перевиты цветными бусами, вся шея унизана всевозможными побрякушками, преимущественно золотыми и серебряными монетами, и все это при движении производит весьма оригинальный и мелодический звук.
Впрочем, самые трудные и непривлекательные работы лежат на женщинах же: они расставляют кибитки, доят кобыл и коров, заботятся о верблюдах, шьют, бьют войлоки и плетут ковры, приготовляют кумыс и проч.; на долю мужчины остаются пастушество и охота, да и то скорее последнее, потому что мне часто случалось видеть громадные стада (атары) овец и табуны лошадей под присмотром одних мальчиков, из которых старшему едва ли было пятнадцать лет.
Грамотности нет и в помине, и потому, если случайно встретится личность, могущая с трудом разобрать только заголовок к первой странице корана, то ее считают ученейшей из ученейших мира сего. Зато способность к сохранению преданий развита до необыкновенной степени; легенды и факты, относящиеся чуть ли не к временам Тамерлана, передаются с необыкновенной точностью, точно события, свершившиеся не более десяти лет тому назад. А живыми хранителями и распространителями преданий служат такие же странствующие певцы-импровизаторы, как Гасан, который пил кумыс в кибитке Аблая-бия после своих вдохновенных импровизаций.
Ночью, когда все уже спали, поднялась отчаянная тревога по всему аулу: киргизы скакали на лошадях, прыгая через остатки огней, через загороди, задевая и опрокидывая все, что им попадалось на дороге, лошади ржали, верблюды, задрав хвосты, вскакивали на ноги и метались в темноте как гигантские тени. Я нащупал впотьмах свою двухстволку и выскочил из кибитки… Дело скоро разъяснилось: всю тревогу наделал один кулан из пойманных на последней охоте, которому удалось сорваться с крепких арканов и перескочить камышовую загородь. Все хлопоты поймать его снова оказались безуспешными: кулан удрал-таки из аула в свои родные пастбища.
Погода стала меняться к утру, и перемена эта не была к лучшему: сперва стал моросить мелкий дождь, потом к нему примешались крупинки льда, и наконец повалил снег густыми хлопьями. Это обстоятельство было мне особенно неприятно, потому что я предполагал утром оставить гостеприимный аул, а откладывать отъезд, по многим причинам, было мне более или менее неудобно.
На другой день рано утром я распростился с Аблаем-бием и выехал из Джиргаллы. Выходя из кибитки, чтобы сесть на лошадь, я заметил, что моим седлом оседлан не мой серый, а другая какая-то лошадь; рассмотрев поближе, я узнал того золотистого жеребца, который мне так понравился третьего дня, и которого я так неосторожно похвалил вслух. Эта была любезность Аблая-бия. Я, к несчастью, не мог достойно в данную минуту отблагодарить хозяина, и сделал это уже впоследствии, подарив ему двухствольный карабин со всеми принадлежностями. Вьюки с обеих лошадей перешли на спину моего серого, и таким образом мы тронулись в путь тою же дорогою.
На возвратном пути мы не заезжали к мирзе Алаяру; Байтак, все выгадывая прямую дорогу, провел меня верстах в двадцати от его стоянки, и первый ночлег наш был в горах, под открытым небом. Ко второй ночи мы попали в знакомую уже нам пещеру, где уже нашли общество из четырех киргиз, из которых один оказался старым знакомым моего слуги, и оба они взаимно обрадовались друг другу. Мне эти четыре личности показались весьма подозрительными, и я не ошибся в этом предположении, когда на другой день Байтак сказал мне уже на пути, что между ними находился один из самых опытных горных барантачей, Шарик, о котором мне прежде случалось слышать в пограничных казачьих станицах, где он приобрел себе довольно громкую известность своими смелыми воровствами в казачьих табунах.
К казакам-дроворубам мы тоже не попали: Байтак вел меня совершенно новою дорогою, еще менее удобной, чем прежняя, но, по его мнению, значительно кратчайшей. Правда, нам не приходилось продираться через густые чащи горных лесов, но зато мы переваливались через такие кряжи, спускались по таким скользким и узким тропинкам, что мне на каждом шагу приходилось удивляться цепкости и верности ног наших лошадей.
Часов в одиннадцать утра мы спустились с Алматинских гор. День был ясный и довольно морозный, хотя сзади нас, в горах, ползали тяжелые свинцовые тучи, спускаясь все ниже и ниже. Сырой ветер налетал порывами и назойливо путал косматые гривы наших лошадей и загибал почти под самое брюхо заиндевевшие пушистые хвосты.
Байтак рысил впереди меня, нахлобучив свою остроконечную шапку-малахай; казачья винтовка плотно прижалась к широкой спине кара-киргиза.
Рассчитывая засветло добраться до казачьих станиц, джигит советовал взять напрямки степью: снег был не более двух вершков глубины, и лошадям бежать было очень удобно.
Тихо и мертво было кругом, только вдали, на белой равнине двигались там и сям черным точки: это были мелкие степные волки, следы которых поминутно пересекали нашу дорогу. Штук десять этих вороватых зверей копошились на полуобъеденном трупе верблюда, шагах в трехстах от нас. Байтак пронзительно крикнул, перепуганные хищники бросились в разные стороны, беспокойно и завистливо оглядываясь на брошенный ими завтрак.
А тучи надвигались все более и более, ветер дул тише и ровнее, в воздухе замелькали мириады белых точек, который становились все крупнее и крупнее и, словно пудрою, обсыпали наши косматые бурки.
— Буран будет! — проворчал Байтак и погнал плетью своего коня.
— А что, доберемся мы до дороги? — спросил я своего вожатого.
— А Аллах на что! — отвечал он, видимо, уклоняясь от прямого ответа. Ему не хотелось ошибиться, а как человек опытный, он хорошо знал, что такое здешние бураны.
Массы крупных снеговых хлопьев винтом падали на землю; ветер ежеминутно изменял направление, что окончательно сбивал с толку. Усталые лошади жались на ходу, отворачивали головы от ветра и уменьшали шаг, несмотря на наши усиленные понукания.
Часа четыре ехали мы таким образом. Начинало темнеть. Несмотря на то, что я старался держаться тотчас же за Байтаком, я едва различал неясный очерк его массивной фигуры. Раза три мы принуждены были останавливаться и отряхиваться: снег бил в лицо и залеплял глаза нам и нашим лошадям. Мой джигит ворчал что-то себе под нос, и я расслышал слова «тулайм джаман», что значит — совсем скверно, фраза, смысл которой не имел для меня ничего утешительного.
Немного спустя киргиз затянул протяжную, монотонную песню-импровизацию на тему нашего положения. Заунывные, воющие звуки этой песни сливались с голосами мятели: певцу удалось попасть в тон непогоды.
Вдруг певец замолк. Влево от нас послышался другой звук, чрезвычайно похожий на пение моего спутника. Протяжно застонало какое-то живое существо, и стон этот оборвался хриплою, болезненною нотою.
Киргиз прислушался немного и засмеялся сквозь зубы.
— Что это? — спросил я его, показав рукой в ту сторону, где слышен был стон.
— Джул-барс [по-киргизски тигр]! — отвечал киргиз и, заметив мое движение к винтовке, добавил:
— Ну, теперь ему, бедному, так же хорошо, как и нам; если бы он и встретился с нами, так он нас не тронет, лишь бы мы его оставили в покое!
На всякий случай я попробовал-таки, удобно ли вынимается из чехла мое оружие, и отстегнул конец замерзшего у пряжки ремня.
С большим трудом подвигались мы вперед, мы, видимо, плутали: нам казалось, что мы кружим на одном месте.
Стемнело окончательно. Ровно ничего не было видно. Для того, чтобы не потерять друг друга, я передал Байтаку чумбур от моей лошади; таким образом, я следовал за своим джигитом как на буксире.
Завывание ветра было так сильно, что, несмотря на такое близкое расстояние, надо было кричать во все горло, если являлась надобность сообщить что-нибудь друг другу.
Становилось невыносимо холодно; зубы неудержимо стучали. Спирта уже не было ни капли; мы с Байтаком немного не разочли на последнем привале; а между тем холодная, неприятная дрожь забиралась под бурки и пробегала по членам. Мы пробовали сойти с лошадей и пройти пешком для того, чтобы согреться немного в движении, но сильные порывы ветра сбивали с ног, и, пройдя несколько десятков шагов, мы едва переводили дух от усталости и снова принуждены были садиться на лошадей, чтоб через десять минут почувствовать сильнейший приступ холода.
Лошади, сильные, привычные к непогодам и всевозможным лишениям, положительно выбились из сил. Положение наше было отчаянное, тем более что мы знали, что до ближайшего человеческого жилья, если б мы не сбились с дороги и находились на должном направлении, было по крайней мере тридцать верст.
А впереди предстояла длинная безотрадная ночь, и Бог весть, придется ли нам еще раз увидать рассвет! Последнее предположение с каждым шагом становилось сомнительнее и сомнительнее, и сомнение это ощущали не только мы с Байтаком, но, кажется, и наши бедные лошади: так лениво, как бы нехотя, вытаскивали они свои косматые ноги из мокрого, уже глубокого снега.
Меня начало клонить ко сну; и в эти минуты как-то тепло становилось внутри, словно подогретое вино переливалось по моим жилам. С большим трудом боролся я с этой неотвязной сонливостью.
Вдруг Байтак наткнулся на что-то и вскрикнул; в ту же минуту и я почувствовал, что перед нами было что-то непреодолимое, плотное, весьма похожее на стену; ощупал руками: под пальцами ясно чувствовалась грубая штукатурка.
— Мазарк… Аулье! — произнес Байтак и этим вывел меня из недоумения.
В азиатских пустынях изредка попадаются уединенные постройки, в которых покоится прах усопших правоверных. Постройки эти, смотря по богатству умерших, достигают иногда довольно значительных размеров; преобладающий тип их: квадратное здание с фронтоном на одном, именно восточном, фасе и куполом в виде опрокинутой чаши; стиль, близко подходящий к индийскому. Судя по местностям, встречаются и разные уклонения от этого типа, более или менее значительные.
Ощупывая стенки, мы добрались до угла строения, потом повернули по другому фасу и нашли-таки вход.
Взойдя в мазарк, мы попытались втащить туда и лошадей, но седла и вьюки не пускали, упираясь в бока входного отверстия. Пришлось расседлывать их, а это была мучительная операция для наших окостенелых пальцев. Наконец мы кое-как справились, и все пятеро (с лошадьми считая) очутились в полном затишье, ощущая приятную относительную теплоту. Осталось добыть огня, тогда бы наше положение было бы почти блистательно. В кармане моих шаровар находилась жестяная коробочка с серными спичками, но этого было слишком недостаточно; надо было добыть матерьялов, способных загораться.
Байтак собирался идти добывать из-под снега прошлогоднюю колючку. Я считал подобное предприятие положительно неосуществимым, но, приняв раз навсегда за правило никогда не возражать моему спутнику ни в чем, касающемся до практической стороны путевой, бродячей жизни, не возражал ему и в этом случае, и только одобрительно произнес: «Хорошо бы!»
Кара-киргиз скрылся. В ожидании его возвращения я оставался в темноте, не позволяя себе тратить спички, которых, как я сосчитал, было не более десятка.
Прошло четверть часа. Байтак не возвращался. Прошло еще немного времени. Ничего, кроме яростных завываний мятели, не было слышно кругом. Я подошел ко входу и громко крикнул… Ответа не последовало, — я еще закричал, собрав всю силу своего голоса, тоже безуспешно: казалось, что ветер обрывал звуки, едва они вылетали изо рта. Я взвел курки двухстволки и выстрелил из обоих стволов, один за другим. Прислушался… вдали, далеко-далеко, послышалось что-то похожее на крик. Я понял, что слуга мой заблудился и потерял направление. Лучшим сигналом мог служить свет, и я начал жечь спички, соблюдая при этом всевозможную экономию.
Синяя искорка затрещала, вспыхнуло красноватое пламя и осветило внутренность нашего убежища. При неожиданном свете лошади фыркнули и навострили уши; на стенах и своде заблистали морозные точки, какие-то фантастические рисунки поползли по сырому фону. Потом все снова стало темнеть; спичка догорела и погасла.
Я выждал несколько минут. Опять услышал голос Байтака, далеко, но все-таки ближе прежнего. Я еще сжег одну спичку, повторяя спасительный сигнал. Послышалось шуршание вязанки топлива в узком входе. Байтак вернулся с добычею.
Он сообщил мне, что думал совсем пропасть, когда услышал выстрелы (голоса моего он не слышал вовсе). Но выстрелы ему мало бы помогли, потому что кара-киргиз не мог определить, где стреляют, и только светлая точка указала ему, где мазарк, и то совсем не в том направлении, куда он шел.
Мы вдвоем принялись за трудную работу добывания огня из мокрого, добытого из-под снега матерьяла.
Опытность и ловкость Байтака преодолели все препятствия. После получасовой возни и пыхтенья, по стеблям сухих растений пробежало пламя, струйки дыма потянулись к сводчатому потолку, веселый треск приятно действовал на наши измученные нервы.
Вход в мазарк мы завесили байковым одеялом и разостлали поближе к огню наши бурки.
Лошади, понурив головы, стояли смирно, прижавшись друг к другу; даже жеребец, подаренный мне Аблай-бием, и тот лениво полузакрыл свои огненные глаза.
Подбросив последнюю щепоть травы, мы заснули, и когда, проснувшись, отдернули одеяло от входа, нам в глаза ударил луч ослепительного дневного света. Мятель улеглась, горизонт очистился.
Байтак сообразил местность, на которой мы находились, и мы тронулись в путь.
Еще засветло выбрались мы на большую вернинскую дорогу, а к ночи мы были уже в Верном, где за стаканом ароматного чая, после горячей русской бани, так скоро забылись ужасы и тревоги недавнего путешествия.



